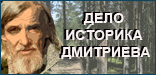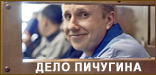Мария Алехина: О Зоне

Мария Алехина (Pussy Riot): "Мы идем в здание, обнесенное каменным забором, — ШИЗО/ПКТ, здесь с нас снимут всю одежду и отправят в корпус карантина в одинаковых клетчатых халатах...."
У моего рассказа нет начала. Нет и самого рассказа. Есть невозможность происходящего, сложенная с помощью слов.
Вряд ли кто-то подтвердит мои слова, найдутся многие, кто их опровергнет, будет сначала вяло, потом все более увлекаясь и в конце очень даже живо вам говорить: «У нас все нормально». Или даже нет — «хорошо». «В ИК-28 все хорошо», — говорят заключенные, администрация, «правозащитники».
ИК-28 — женская исправительная колония в Пермском крае, окруженная заводами и тайгой. Есть доля иронии в том, что я, будучи когда-то частью экологического движения, попадаю в зону, где дышат отходами вредного производства. Все вокруг серое, если даже оно и другого цвета — все равно содержит оттенок серого в себе. Все: здания, пища, небо, слова. Это антижизнь на автономном участке пространства.
Сюда привозят этапом, в моем случае — из Москвы через три пересыльные тюрьмы (СИЗО Кирова, Перми, Соликамска), через три столыпинских вагона и множество автозаков. Когда последний из них подъехал к высоким железным воротам, в нем прибыли 19 человек. 19 новых заключенных: будущих швей, раскройщиков и подсобных рабочих.
От ворот до места обыска мы идем, согнутые под тяжестью сумок. У меня их три, и общий вес почти равен моему собственному.
Мы идем в здание, обнесенное каменным забором, — ШИЗО/ПКТ, здесь с нас снимут всю одежду и отправят в корпус карантина в одинаковых клетчатых халатах.
В карантине осужденных адаптируют, а точнее — учат привыкать. Привыкать вскакивать в полшестого утра и бежать скорее в ванную (кроме меня, «ванной» эту комнату никто не называет): раковины — три, туалета — два, заключенных — сорок, мы торопимся и в шесть утра, уже партиями по десять человек, бежим в кухню на завтрак. При этом нужно успеть в каптерку, где хранятся все вещи, в том числе и продукты, — если, конечно, мы хотим пить чай; впрочем, попасть туда надо обязательно, так как пижама не может находиться под подушкой. После двух недель умывания ледяной водой мои руки уже не похожи на руки, я могу помыть их и теплой, но за ней очередь и тоже нужно бежать. Бежать надо будет постоянно еще полтора года. Я привыкаю. Мы привыкаем все вместе в так называемой гостиной-ПВР.
ПВР — это Правила внутреннего распорядка, имеется в виду, что в карантине мы должны выучить их наизусть, и это не шутка. Не то чтобы мы учим, но каждый день садимся их слушать (кто-то один читает вслух). Так эта комната получила название ПВР, под дверным косяком при входе даже висит соответствующая надпись. Мы ходим в ПВР читать ПВР. Никакого абсурда. Чтобы не уснуть в ПВР (в углу видеокамера), я ухожу во двор убирать снег лопатой. Двор (это не двор, а небольшой квадрат земли, обнесенный проволокой) прилагается к каждому бараку.
Чтобы не уснуть, нужно придумывать дела: связывать нитками сигареты (пачки запрещены, их выкидывают при обыске, сигареты сваливают в один большой мешок), собирать спички обратно в коробки, пришивать бирки с фамилией к форме, делать опись вещей. Чтобы не уснуть. Уснуть, сидя в ПВР, — это нарушение, плохо пришитая бирка — это нарушение, незастегнутая пуговица на пальто при построении — это нарушение.
Триада «преступление-наказание-исправление», любая концепция вокруг этих терминов ничтожна. Фактически здесь просто ищут нарушения. Главная штука для манипуляций — УДО. Тебя спрашивают: хочешь УДО? Тогда изволь адаптироваться. Об УДО половина бесед. «А когда у тебя УДО?», «Думаешь, получится уйти?», «А что будешь делать после УДО на воле?», «Скорее бы выйти по УДО».
Выйти по УДО — совсем не сложно. Для этого шьют по 12 часов в день за тысячу рублей максимум в месяц; для этого не пишут жалоб; для этого подставляют, доносят, наступают на остатки принципов; для этого молчат и терпят; для этого привыкают.
Есть понятие «система социальных лифтов» — ряд критериев, по соблюдению/несоблюдению которых комиссия по УДО определит, исправился осужденный или нет. Их тоже читают вслух.
Не нарушать, работать, посещать мероприятия, библиотеку, психолога, молельную комнату (всем еще не надоело говорить, что у нас светское государство?). Иметь социально-показные связи, т.е. не терять контакт с родственниками.
В итоге весь комплекс действий осужденного совершается для галочки к УДО, а не как результат личностного роста. В моей беседе с психологом последняя сравнила это с карьерным ростом, приведя себя в пример. «У нас, военных, так же», — сказала она. И это горькая правда: у половины страны так же, как у осужденных за преступления. Личности не нужны, нужны привыкшие. «И ничего не изменится», — говорим в один голос я и одна из осужденных. Только выбор в безнадежной ситуации делаем разный.
«Привыкнуть, зная, что безнадежно, и бороться, зная, что безнадежно. Я думаю, — продолжает она, — вот террористы захватывают самолет или театр, но ни разу, нигде они не захватывают тюрьму». Потому что мы никому не нужны — мой вывод вырывается автоматически, шепотом. В этот момент — поздней ночью, когда одна смена рабочих на фабрике сменяет другую, — я на секунду ощущаю страшное единство между собой и отсидевшим более двадцати лет человеком, единство в ненужности, выкинутости перед всем объективным. Перед «обществом», властью — внутри мертвого мира, парадоксальным образом рождающего людей зоны.
Источник: The Newstimes